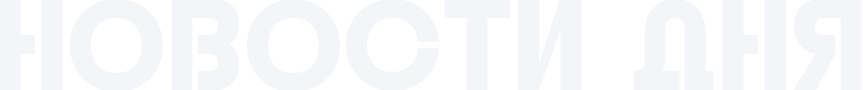Необычная фамилия Плющ, особенно для коренного петербуржца. Откуда такая? — все просто. По паспорту я Плющев, — сообщил Иван Плющ. — Мои предки носили фамилию Плющ, потом ее удлинили. А в училище один педагог стал называть меня Плющом, так и пристало.
У меня рано возникло ощущение, что я стану либо великим художником, либо спортсменом. Сначала мечтал стать водителем мусоровоза или гонщиком. Позже я стал кандидатом в мастера по теннису. При этом всегда много рисовал.
Лет в 13–14 я понял, что спорт однообразен. Бесконечность, которая есть в искусстве, показалась интереснее. Дома я строил целые города из подручных предметов. Это были мои первые инсталляции.
Да, «Театр Плюща» начался тогда. Я мог купить кучу ластиков, разрезать их и строить объекты для выдуманного города. Использовал всё, что было под рукой — бумагу, клей. Я проводил всё свободное время, создавая свои миры.
В 16 лет я поступил в художественное училище. Там я попал в среду, где все дышали творческим кислородом. Я погрузился в мир мастерских, книг и альбомов, которые мы обсуждали.
Да, в этом юном возрасте я отстаивал свою позицию, а преподаватели не воспринимали студента как человека для дискуссии, — добавил он. — Первый раз меня отчислили за «двойку» по физкультуре, хотя я занял первое место на студенческих соревнованиях по настольному теннису. Но я упрямый — восстановился.
Потом меня отчислили по практике, хотя у меня было больше всех материалов. Эта ситуация говорит о конфликте старой и новой школы, который существует и сегодня. Не хватает креативного подхода, который позволял бы студентам искать свой путь.
Да, я хорошо освоил живопись. Может, что-то подзабыл, но рука легко вспомнит. После училища я не хотел идти в академию Репина, а метил в академию Штиглица. Меня привлекла идея масштаба и монументальности.
Первые свои работы — серию объектов из картона и металла «Картонная жизнь» — я выставлял в коридоре кафедры. Она о том, как человек проживает чужую жизнь. Это было началом размышления про «Театр Плюща».
Для меня как для художника советское — это система самоанализа. Я родился в 1981 году. Самое сильное детское воспоминание — длинная очередь с мамой за машинкой. В работах я говорю, что Советский Союз никуда не исчез.
Люди живут в этой матрице и сегодня. В какой-то момент казалось, что мы уходим в другой мир, но потом начали возвращаться назад. Я часто касаюсь этой темы, но я не политический художник.
Когда художник рефлексирует на внешнюю ситуацию, он не может не затрагивать то, что происходит вокруг. Мы живем в такое время, когда нельзя не замечать происходящее.
Будучи студентом, я познакомился с Настей Шавлоховой. Мы устраивали выезды за город, названные плющ-air. Сначала ехало 20 человек, а через три года — уже 400. Там происходили диалоги, знакомства, рождались идеи.
Мы с Настей поняли, что в Петербурге нет места для молодых художников. Так родилась идея открытой студии «Непокоренные», где художники живут и работают. Главное правило — не закрываться и пускать других в свой мир.
Через нас прошло много художников, которые сегодня делают погоду в искусстве. Например, проект «Память полей» в лофте «Этажи» в 2007 году занял несколько тысяч квадратных метров. Это был грандиозный проект.
Для меня идеален режим, когда я две недели работаю в мастерской один, а потом несколько дней активно общаюсь на вернисажах. Я не устаю ни от того, ни от другого.
В работе «Процесс прохождения» два смысла — рефлексия по поводу советского и аллегория успеха, — пояснил Плющ. — Советская красная дорожка уходит в никуда. Это разговор о том, что многие проживают жизнь с чужими стремлениями.
Социуму удобно выталкивать всех на красную дорожку. Не все дойдут до вершины, а дошедшие исчезнут в комке. Этот смысл для меня не менее важен.
Вторая по размеру работа — советская карусель по 25 метров в каждую сторону — показывалась в нижегородском «Арсенале». Я хотел бы делать другие масштабные работы. Есть эскиз с настоящим самолетом.
Работа «Процесс прохождения» находится в коллекции Эрмитажа. Дорожка хранится скрученной. Железную конструкцию можно сделать новую под конкретный зал. Есть вся документация для воссоздания.
Ковер в работе не исторический. Он новый, длиной 140 метров, с типичным номенклатурным узором. Я нашел его в одном из российских городов. По задумке, этот путь должен и привлекать, и отталкивать.
Для меня очень важен художник Рене Магритт. Его загадочная поэтичность мне близка. Кабаков тоже важен. Но Магритта я боялся невольно копировать, а с Кабаковым у меня происходит диалог.
Кабаков, может, и не вышел из советского времени, а наше поколение — вышло. Хотя не все. Многие живут в петле, где всё возвращается. Меня поражает, как люди быстро меняют свои оценки под новые обстоятельства.
Абсолютно. То, что они не были «сделаны в СССР», ничего не меняет. Они, может, не знают советское кино, но живут в той же системе координат.
Когда я оказываюсь в мастерской, я полчаса–час сижу, записываю мысли на бумажках, — поделился художник. — Так я вхожу в правильное состояние. Предпочитаю работать вечером. Полюбил аудиокниги — Драйзера, Воннегута, Шекспира.
Советское — это часть ментального кода. Если бы страна с 1991 года постоянно двигалась в другую сторону, мы бы перешли рубеж, и СССР стал бы просто историей. Но мы в петле.
В моем искусстве есть рефлексия с советским кодом, но не все проекты такие. Например, проект «Обещание вечной жизни», показанный в США, не связан с СССР. Он о придуманном мире.
Пока у человека есть телесность, дополненная реальность не заменит действительную жизнь, — предположил он. — В проекте с нейросетью я пытался взглянуть на мир глазами машины. Её безучастный взгляд — это алгоритм.
Он базируется на предложенных изображениях и данных из сети, выдает нечто забавное, с ошибками. Не знаю, появится ли у искусственного интеллекта своя воля. Думаю, мы увидим это через пять лет.
То, что я делаю ретроспективу, — это тоже советский рефлекс, привычка подводить черту. Надеюсь, проект с нейросетью начал для меня новую главу. Мой стертый персонаж трансформируется в призме машинного видения.